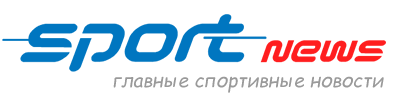Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел – ответственность за страну
Бушующая за окном история часто находит себе объяснение не в толстых научных томах, а в художественной литературе. С Евгением Водолазкиным, ученым и писателем, который в своем романе “Оправдание Острова” дает неожиданный фокус современности, наш разговор.
Ваш учитель Дмитрий Лихачев считал, что с рождением человека родится и его время. Но главным героям "Острова" 350 лет, и они живут сквозь время.
Евгений Водолазкин: В нашей современности уже не найти героев, чья жизнь была бы построена "по вертикали". А в Средневековье это было главное направление жизни – вверх. Люди думали о вечности, и у них был постоянный выход в нее. Не было потолка: в каждой избе – звездное небо. А у нас потолок – в прямом и переносном смысле – очень крепок. И неплохо бы нам хоть в какой-то мере позаимствовать это чувство вертикали. Вот для чего нужно прошлое: чтобы звездное небо не до конца было забито досками.
В придуманной вами стране протесты и революции то и дело являют глупость масс, хитрость вождей и всевозможную практику шельмования. Вы не верите в энергию протеста?
Евгений Водолазкин: У меня нет ни малейшей симпатии к революциям – ни к левым, ни к правым. Лесков во времена, когда модно было быть нигилистом, написавший два антинигилистических романа, на вопрос "Вы не верите в русскую революцию?" отвечал примерно в том роде, что он допускает возможность революции, но уверен в том, что на следующий же день народ выберет самого свирепого квартального и будет ему поклоняться.
Я думаю, что реформы в старой оболочке часто сильнее и действеннее, чем революционный переход в новую. Существа, меняющие кожу, делают это, когда внутри наросла другая. А революция похожа на преждевременное сдирание кожи.
Почему вы выбрали в герои "первых лиц" придуманной вами страны?
Евгений Водолазкин: "Простые" люди очень важны, но вопрос "о личности в истории" чаще всего ставится в отношении людей, имеющих власть. От первых лиц зависит и моральный климат. Правит ли страной политический функционер или человек, который чувствует себя, если угодно, Моисеем? И даже когда у власти просто добрый человек, это тоже важно. Правитель – камертон. Он дает всем настрой.
Святые правители Острова жертвуют собой ради него…
Евгений Водолазкин: Существует мнение, что у человека, достигшего большой высоты, служба превращается в служение. Он чувствует себя ответственным за свой народ и становится, в общем, совсем иным человеком. В России такая позиция была у государей. Они больше чем политики, их удел – ответственность за страну. Кто-то соответствовал этому, кто-то нет, но так это мыслилось. Разумеется, и здесь таилась своя опасность. Вероятно, даже культ Сталина был эрзацем этой идеи. Он вырос на инерции отношения к правителю как к отцу народа. Хотя большой радости это отцовство нам не принесло. Сталин фактически паразитировал на этом чувстве и стремлении.
Лесков говорил: всякий человек в своем расчислении у Господа. И каждая страна тоже
Сейчас этот "имперский запрос" исчез?
Евгений Водолазкин: Думаю, что остался. Безотносительно к оценке этого запроса, он, похоже, продолжает существовать в виде ожидания от правителя особой харизмы. В Швейцарии, Англии, Германии в сознании обывателя парикмахер, историк литературы, президент – это, так сказать, род занятий, явления равноположенные. Мои русские знакомые весьма либеральных взглядов, живущие в Англии, неожиданно сказали мне: нас здесь поражает отсутствие харизмы у власти. Начинается заседание правительства – кто-то развалился на стуле, кто-то облокотился о подоконник; приходит первое лицо государства, одного хлопает по плечу, другому жмет руку, и все это похоже на встречи клуба филателистов. Правитель в современной Европе – и в этом отношении она отличается как от Америки, так и от России – часто воспринимается как менеджер. А менеджеру не нужна харизма. Он не является тем острием нации, которое аккумулирует всю энергию народа, все его устремления. И, честное слово, трудно сказать, что лучше – отсутствие пафоса или монументализм. Вероятно, надо просто успокоиться на том, что универсального властного стиля нет, и каждый народ выбирает что-то свое.
Несмотря на древнерусские имена – Агафон, Евфимий, Власий, в замках, башнях, монастырях Острова угадывается скорее средневековая Европа.
Евгений Водолазкин: Я действительно пытался рассмотреть с точки зрения хронотопа (если рассуждать в терминах Бахтина) европейскую цивилизацию. На этом Острове я соединил Восток и Запад. В книге есть сюжеты из русских летописей и византийских хроник, из "Истории франков" Григория Турского. Любимой идеей Дмитрия Сергеевича Лихачева было то, что русские – это европейцы. Он пытался даже через периодизацию древнерусской литературы подчеркнуть наше единство с Европой, используя, например, термин "Предвозрождение" (потому что Возрождения все-таки на Руси не было), чтобы унифицировать историю европейского Востока и Запада. И чем больше я занимался историей, тем больше убеждался в его правоте. Мы с Западной Европой все-таки действительно очень близки. Одна из задач романа – показать единство нашей цивилизации и парадоксальность воинственного отношения европейских народов друг к другу. Впрочем, говорят, что самые жесткие распри – внутрисемейные.
Европа почти всегда порождает в нас комплекс неполноценности: кажется, что она сильнее, умнее, развитее. И Петр I с небезосновательным нажимом приближал Россию к Европе. Почему мы от нее отстаем?
Евгений Водолазкин: Не думаю, что мы от нее отстаем. Мы все-таки не на ипподроме. История – такая гонка, где у каждого свой приз и свой маршрут. У нас любят говорить об особом пути, но я бы сказал, что особый путь у каждого народа. Мы по ряду причин позже стартовали. Но это ведь как в евангельской притче о работниках в винограднике: не важно, кто когда пришел, каждый получит свой динарий – и пришедший в первый час работы, и тот, кто появился в ее последний, одиннадцатый, час. Некоторые европейские народы сформировались до принятия христианства, и христианской культуре довелось взаимодействовать там с античной, что можно рассматривать как особый исторический дар. Но разве меньший дар быть, как в случае нашей культуры, рожденным и воспитанным христианством? Другое дело, что отдельным работникам хочется получить больше одного динария, но заняты они не сбором винограда. Их нива – сфера идеологии, в которой обосновывается право быть законодателем мод, верховным арбитром или, говоря по-семейному, старшим братом.
У вас очень необычный юмор, рождающийся из логики рассуждения и заканчивающийся тонким абсурдом. По изяществу это напоминает американскую литературу.
Евгений Водолазкин: Я бы говорил скорее об англо-американской литературе. Это особое качество англосаксонского юмора. Возьмите Диккенса, Честертона, Оскара Уайльда. Но юмор есть и у русских классиков, даже самых серьезных. У Достоевского есть чему посмеяться. У Гоголя совершенно удивительный юмор. Странный гоголевский смех переходит в слезы. Смех русской литературы – немного юродский. Юродивый смеется потому, что может оплакать то, над чем смеется. Как сказано в одном из тропарей: днем он смеялся над миром, а ночью оплакивал его. Это неразрушительный смех.
Но привычка смеяться берет в плен.
Евгений Водолазкин: Но смеяться надо. Смех – это, по Бахтину, вненаходимость. Когда человек видит все только изнутри и не способен посмотреть на себя со стороны, это ни к чему хорошему не ведет. А смех дает способность сменить точку зрения и увидеть что-то другое. У Джулиана Барнса, например, потрясающее чувство юмора. Очень тонкого, иногда неочевидного, когда думаешь: это всерьез или не совсем? У Барнса есть замечательная книга "Нечего бояться", за которую в прошлом году он получил премию "Яснаяя Поляна". Эта книга – рассуждение о смерти. Барнс – агностик, но книга его чрезвычайно полезна и для верующих. Потому что и верующие, и неверующие оказываются перед лицом смерти и решают одну и ту же проблему. И Барнс удивительно тонко, умно и с юмором рассуждает о смерти. Мне, кстати говоря, посчастливилось несколько лет назад беседовать с ним в Москве, правда, на совсем несмешную тему. Мы обсуждали известный эпизод, когда молодые англичане, приехавшие в Россию вскоре после ждановского постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград", взялись выяснять у Ахматовой и Зощенко, как они относятся к этому тексту. И я говорю Барнсу: они ведь вроде бы не дети уже, знают, что в стране террор, и задают такой вопрос… Что это? Барнс сказал, что его самого это изумляло, и согласился с тем, что вопрос был чудовищный, ведущий к краю бездны. Я думаю, в нем сказалось и некое абсолютное отличие в истории, культуре, когда люди умом понимают, какая здесь ситуация, но кожей этого не чувствуют. Не ощущают страха, потому что не привыкли бояться.
Тоже вненаходимость.
Евгений Водолазкин: Я бы сказал, отключка. Меня это всегда удивляло в Западе. Они как будто верно все формулируют, но за этими формулами не всегда присутствует понимание. Вроде бы видят проблемы, но какие-то неосновные. Не улавливают самых важных вещей. Получается, что, пользуясь одними и теми же словами, мы вкладываем в них разный смысл. В романе известного немецкого писателя Даниэля Кельмана "Измеряя мир" – о двух выдающихся немцах, Гауссе и Гумбольдте – есть диалог героев, который мне кажется символом наших отношений с Западом. Абсолютно монологически настроенные собеседники говорят какие-то фразы в пустоту. А Барнс, кстати, -счастливое исключение: он тонко понимает русскую культуру и наши с Европой сходства и различия… Недаром его роман "Шум времени" посвящен Шостаковичу.
Ну, тогда мы точно не опоздавший жить Остров, если такие писатели обращают внимание на русские сюжеты.
Евгений Водолазкин: Я не верю в теорию опоздания. Как говорил в свое время Лесков: "Всякий человек в своем расчислении у Господа". И каждая страна тоже. Но чтобы понимать свой путь, нужно знать свою историю – и хорошее в ней, и дурное.
Многие мои знакомые, говоря о России, прибегают к метафоре острова. Мы стали островом – это про отдаление Запада.
Евгений Водолазкин: Мы сейчас действительно остров. Россия – в том числе и под влиянием внешних обстоятельств – меняется. Я думаю, что назрел спокойный и ответственный разговор с Западом. Пока он идет трудно, но он должен состояться: иного пути просто нет. Мы нужны друг другу. В последние месяцы я много перечитывал Достоевского. Насколько же он был европейски ориентированным человеком! Чего стоит его знаменитая фраза: "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!" Его отношение к Европе было, конечно, не только позитивным. Но важно, что Достоевский, разделявший многие взгляды почвенников, был в высшей степени европейцем. Эту его особенность не уставал подчеркивать еще один русский европеец – Лихачев. Помню, при мне кто-то сказал ему: "У меня турне по Европе". А Дмитрий Сергеевич в ответ: "А сейчас вы где находитесь?" Мне кажется, все мы, живущие в России, должны время от времени задавать себе этот вопрос.