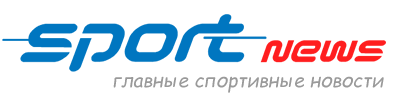Федор Достоевский: У нас – русских, – две родины: наша Русь и Европа
Манифест режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0" вызвал бурную полемику в СМИ и соцсетях. Одна из его тем – "Россия и Европа" вдруг оказалась столь же болезненно обсуждаемой, как и во времена исторических схваток "западников" и "славянофилов". Без Достоевского, 200-летие которого мы будем отмечать в ноябре этого года, в данном споре не обойтись. Поддержавший манифест Богомолова Дмитрий Быков считает, что размышления известного режиссера являются прямым продолжением мыслей Достоевского. "Что касается конкретно выраженных идей, выраженных в этом тексте, он (Богомолов – прим. ред.) недавно ставил "Бесов" и под это дело, видимо, очень много читал Достоевского", – говорит Быков. Так ли это? Свою точку зрения мы попросили высказать исследователя, который знает о Достоевском буквально все, – писателя и филолога Людмилу Сараскину.
Россия и Европа – лейтмотив публицистики Достоевского на протяжении двадцати его последних лет, насыщавшей полемические диалоги его романов. Достоевский-почвенник надеялся примирить противоречия России и Европы, мечтал о синтезе родной почвы и западной культуры.
На протяжении веков Россия оставалась чуждой Европе – этот горький пушкинский вывод становится в первой половине 60-х годов XIX века базовой исторической аксиомой для выработки идеологии почвенничества.
Пушкин не пророчил, а провидел истинную причину всегдашней нелюбви Европы к России – она и в XX веке сделает с европейским нашествием то же самое, что сделала в веке 19-м.
Достоевский продолжает мысль поэта: "Европа нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу…".
Таинственный смысл истории, связь прошлого и будущего, роль России в судьбе Европы – центральное интеллектуальное переживание старших современников Достоевского. В начале 30-х годов Н.В. Гоголь был одержим мыслью, что он "создан историком и призван к преподаванию судеб человечества".
Достоевский призывает не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество
О том же говорил и А.И. Герцен десятилетие спустя: "История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, – мы, как Янус, смотрим вперед".
Начало 1860-х – время возвращения в европейскую Россию после сибирской каторги и ссылки – Достоевский воспринимает еще и как финал Петровских реформ. "Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена… Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни".
Русские убедились, наконец, считал Достоевский, что они тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и вернулись на родную почву не побежденными. Они поняли, что не следует отделяться китайской стеной от человечества, что русская идея может стать синтезом всех тех идей, которые развивает Европа в отдельных своих национальностях. "Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых".
В 1862 году Достоевский впервые в жизни оказался за границей и путешествовал по городам Европы два с половиной месяца. Дорогого стоит его признание в "Зимних заметках о летних впечатлениях": "За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства… Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок".
Достоевский называет Европу страной долгих томлений, ожиданий и упорных верований, страной, о который он бесплодно мечтал почти сорок лет, а в шестнадцать хотел даже бежать в страну святых чудес. Почему Европа имеет на русских, кто бы они ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? – восклицает он. Вопрос риторический. "Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась".
Смог ли кто-нибудь из образованных русских устоять против этого влияния? Если нет, то как, при таких влияниях, русские окончательно не переродились в европейцев? "Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек!".
Образ "страны святых чудес", при всех разочарованиях и обманутых надеждах, не померк в сознании Достоевского даже в самые тяжелые времена русско-турецкой войны, когда Европа жестко противостояла русским интересам и русской армии на Востоке. "У нас – русских, – писал Достоевский в "Дневнике писателя за 1876 год", – две родины: наша Русь и Европа… Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству".
Он призывает не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество. Русским не стыдно по-настоящему любить Европу – ведь многое из того, что от нее взято и пересажено на родную почву, не копировалось рабски, а прививалось к своему организму, вживалось в плоть и кровь. "Всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс – роднее и понятнее русским, чем, например, немцам… Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах".
 15 апреля 2019 года. Во Франции культурная трагедия: горит один из главных символов Парижа – собор Нотр-Дам. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса сказал: "Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Безусловно, собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах". Свои соболезнования французам высказали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В наших соцсетях шли непрерывные отклики на это событие, многие жители России восприняли это как личную утрату. Парижская трагедия объединила не только всю Европу, но и напомнила нам о вековых и неразрывных культурных связях России и Франции, России и Европы в целом. Федор Достоевский писал об этом более ста лет назад.
15 апреля 2019 года. Во Франции культурная трагедия: горит один из главных символов Парижа – собор Нотр-Дам. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса сказал: "Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Безусловно, собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах". Свои соболезнования французам высказали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В наших соцсетях шли непрерывные отклики на это событие, многие жители России восприняли это как личную утрату. Парижская трагедия объединила не только всю Европу, но и напомнила нам о вековых и неразрывных культурных связях России и Франции, России и Европы в целом. Федор Достоевский писал об этом более ста лет назад.
Достоевский множество раз горько сетовал на то, что Европа Россию не принимает и не любит. Это горечь была особенно сильной в разгар русско-турецкой кампании. Благородная цель войны, провозглашенная Россией, казалась Европе столь невероятной, что воспринималась как варварство "отставшей, зверской и непросвещенной" нации, способной лишь на низость и глупость. "Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия…".
Достоевский вынужден признать: весь девятнадцатый век русских европейцев преследовала лакейская боязнь и постыдный страх прослыть в Европе азиатскими варварами. Во имя этого стыда и страха были допущены колоссальные ошибки, за которые русские поплатились утратой духовной самостоятельности. Неудачная европейская политика России вызвала у Европы еще бóльшую неприязнь к ней. "И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии "спасать царей", то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою".
Однако всякая попытка "осчастливить" Европу, освободив ее от очередного деспота и узурпатора, почему-то никому не приносила политического счастья. Так случилось даже и с освобождением Европы от Наполеона, от его, по Пушкину, "наглой воли": "Все эти освобожденные нами народы, тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе всё, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, – что делали мы во все остальные годы столетия и даже доныне?".
Спустя полвека после Пушкина, Достоевский видит все те же причины европейской подозрительности и недоброжелательства. Подводя предварительные итоги русско-европейским отношениям, он признает русское поражение в европейской политике. "Кончилось тем, что теперь всякий в Европе… держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть!".
Россия, считает Достоевский, проиграла свою европейскую карту как раз из-за того, что так активно, себе во вред, не считаясь с собственными интересами, не понимая даже, в чем именно эти интересы состоят, бросалась в европейские распри, как в свое кровное дело. Это русское безрассудство только способствовало усилению тех, кто уже завтра готов был напасть на Россию.
Европа никак не смогла признать Россию своей, не признала за ней право участвовать наравне с европейскими державами в судьбе их общей цивилизации. Европа считает русских пришельцами, самозванцами. "Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся… И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя и там бывают иногда с нами вежливы".
Не оставалось никаких иллюзий насчет вожделенного братства: какое братство, если Европа "своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себе как людей, как породу".
Достоевский: "И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, напрашивались во все ее дела и делишки"
И тем не менее, несмотря ни на что, Россия, по мысли Достоевского, не должна отворачиваться совсем от Европы, тем более – от окна в Европу. Как свое политическое завещание произносит Достоевский поразительные слова в адрес Европы – поразительные и ошеломляющие, если учесть все минувшие войны, в которых Европа была для России или ненадежным союзником или коварным противником. "Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными".
То есть, такая мать, которая не любит и не уважает свое неразумное, навязчивое дитя, порой ненавидит и боится его, не доверяет ему, подозревает в дурных и злых намерениях, считает вором, ряженым, желает ему хиреть и слабеть, а при попытках нежностей с отвращением отворачивается.
Выходило, что привязанность России к Европе – страсть роковая, неотступная, безответная и всегда жертвенная. Мы сами, считал Достоевский, сделали для себя из Европы какой-то духовный Египет. Не пора ли позаботиться об исходе, перестав быть рабами и приживальщиками? Не пора ли собраться с мыслями, сосредоточиться на себе, жить своими внутренними интересами?
Кстати
В издательстве "Прогресс-Традиция" готовится к выходу новая книга Людмилы Сараскиной "Достоевский и предшественники: подлинное и мнимое в пространстве культуры".